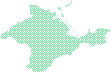В Замоскворецком районном суде Москвы в среду, 5 февраля, завершились заседания по делу о массовых беспорядках на митинге 6 мая 2012 года. Каждый из восьми фигурантов, оставшихся сидеть на скамье подсудимых для проходящих по «делу двенадцати», выступил с последним словом. Некоторые просили судью о милосердии, некоторые возмущались качеством следствия, но ни один из выступавших не признал своей вины.
В Замоскворецком районном суде Москвы в среду, 5 февраля, завершились заседания по делу о массовых беспорядках на митинге 6 мая 2012 года. Каждый из восьми фигурантов, оставшихся сидеть на скамье подсудимых для проходящих по «делу двенадцати», выступил с последним словом. Некоторые просили судью о милосердии, некоторые возмущались качеством следствия, но ни один из выступавших не признал своей вины.
Анне, молодой брюнетке из группы поддержки фигурантов «болотного дела», перед началом заседания стало плохо: с припадком, похожим на эпилептический, она лежала на двух стульях в коридоре; ей помогали адвокаты подсудимых. Говорили, что Анне стало плохо из-за духоты, и это похоже на правду: в этот день в здании суда была толпа, трансляцию в холле первого этажа слушали триста человек; еще человек сто выстроились под окнами, периодически скандируя «Позор!» и ― по-майдановски ― «Банду геть!»
Эти крики рефреном звучали во время речей подсудимых: семеро из них сидели в двухсекционной клетке из белых прутьев; восьмая подсудимая, Александра Духанина, вышедшая за время процесса замуж и принявшая фамилию Наумова, ― за столом рядом с адвокатом. В клетке по очереди читали журналы «Дилетант» и The New Times; Наумова выложила на стол толстенный том Конрада Лоренца «Так называемое зло».
Сергей Кривов, самый дотошный из фигурантов дела, в начале заседания зачитал письмо от своего общественного защитника Сергея Мохнаткина ― тот на данный момент находится в СИЗО по обвинению в избиении полицейского и не принимает участия в судебных заседаниях. Его письмо стало последним выступлением от лица адвокатов ― прения, в ходе которых дали слово остальным защитникам, завершились неделю назад.
«Вспомним 1960 год, забастовку в Новочеркасске, когда рабочие возмутились новым распорядком рабочего дня и вышли на площадь, ― призывал в письме Мохнаткин. ― Их протест носил мирный характер, но на площади заговорил пулемет, после которого на площади нашли трупы и женщин, и подростков».
«Чем отличался тот день от мирной демонстрации 6 мая? ― спрашивал Мохнаткин. ― Оба эти дня были ясными и солнечными, но в отличие от рабочих, у которых украли зарплаты, на Болотную площадь вышли люди, у которых украли голоса. Мы не знаем имени человека, который нажимал на гашетку в Новочеркасске, но мы знаем имена омоновцев, бивших митингующих рублеными ударами, участников вероломной атаки ГУВД».
После того как Кривов закончил зачитывать письмо своего защитника, судья дала подсудимым последнее слово.
«Я находился на митинге с научным интересом, собирал информацию для дипломной работы, ― тихим голосом начал свою речь Ярослав Белоусов, четверокурсник факультета политологии МГУ. ― Если бы я совершил что-то преступное, то обязательно сказал бы об этом на предварительном следствии: у меня жена, ребенок, я не хотел никому причинять боль. Я не признаю своей вины, потому что ничего не совершал».
«Я решил ограничиться фактами и доказательствами, ― встал со своего места в клетке другой студент Степан Зимин. ― Я не надеюсь на оправдательный приговор, у меня в этом отношении сформировалось собственное мнение. Не то чтобы я считал себя виноватым, нет. Просто у нас оправдательные приговоры составляют едва ли половину процента от общего числа, и у меня нет никаких шансов на то, что я попаду в эту статистику. Меня обвиняют в том, что я дважды кинул камни в омоновца Куватова, хотя я большую часть митинга провел в автозаке, так как был задержан в самом начале. В качестве доказательства обвинение предъявляет документ из больницы, согласно которому камень сломал ему палец. Никто не обращает внимания на две независимые экспертизы, из которых следует, что палец был не сломан, а скручен ― скорее всего, попал в зазор между железными барьерами».
Речь Андрея Барабанова предварили крики толпы под окнами «Опричники, под суд!», после которых в зале закрыли окна. «За те два года, что я нахожусь в СИЗО под стражей, я многое переосмыслил, и мне жаль, что я принес столько неприятностей своей семье, ― говорил Андрей Барабанов. ― Тюремный опыт заставил меня избавиться от вредного эгоизма и чрезмерного максимализма. В тюрьме я понял, что теряю присущие человеку навыки и способности, а главное, я чуть не потерял самое главное у человека, здоровье. Ваша честь, я чувствую, как у меня рвутся социальные связи, я хочу учиться, работать и помогать людям. Я не являюсь политическим активистом ― на Болотную площадь я пришел с тем, чтобы выразить свою гражданскую позицию: меня волнуют выборы и подсчет голосов, я хочу жить в стране, где соблюдаются права человека. Ваша честь, я не прошу вас всех отпускать, но просто проявить милосердие: проходят важные для меня годы, а я каждый день вижу в своем окне тюремную решетку и здание ГСУ. Я не хотел причинить боль омоновцу Круглову, я не считаю себя виноватым в причинении вреда здоровью представителям власти. Я не спорю, что мои действия противозаконны, но двух лет [отбытых в СИЗО] вполне достаточно. Прошу вас проявить милосердие и назначить мне и остальным наказание, сроком не превышающим время, уже отбытое в СИЗО».
Алексей Полихович начал свое выступление с цитаты из эссе Джорджа Оруэлла «Политика и английский язык»: «Политическая речь и письмо в большой части ― оправдание того, чему нет оправдания. Поэтому политический язык должен состоять по большей части из эвфемизмов, тавтологий и всяческих расплывчатостей и туманностей». Согласно Полиховичу, «кредо англоязычных политиков, выведенное Оруэллом, сегодня в России является девизом Следственного комитета»: «Только у следователя не политический язык, а доказательства по нашему делу».
«В столкновении инструкции, бумажки, с настоящей жизнью всегда выигрывает жизнь, какая бы точная инструкция ни была. На Болотной омоновцы считали неуместным и несвоевременным предъявлять удостоверения, объяснять характер нарушения при задержании. А действовали ли полицейские правомерно? ― спросил у суда Полихович и тут же продолжил. ― Вопрос риторический. Мы наблюдали избиение мирных граждан очень четко. Без разницы, насколько избирательно ваше восприятие и сколько звезд у вас на погонах, ― нельзя избиение ногами и дубинками лежащего на асфальте человека назвать задержанием».
Одетый в черную толстовку с рисунком, изображавшим испанского революционера в красной пилотке, Алексей открыто иронизировал: «К определению наличия и отсутствия преступления у нас подходят творчески. Брошенный лимон, удержание барьеров, антиправительственные лозунги квалифицируют как участие в массовых беспорядках. Закидывание ярославского ОМОНа пластиковыми креслами на стадионе следствие называет вандализмом, а действия, совершенные при разгроме овощебазы в Бирюлеве ― хулиганством».
Листки в руках Александры Наумовой слегка дрожали: «Нам всем мстят за то, что мы видели, как они бьют людей. Мстят за то, что мы не прогнулись и не признались в несуществующей вине: ни на следствии, ни здесь, в суде. Еще мне мстят за то, что я не стала помогать им в их вранье, и отказалась отвечать на их вопросы».
«Сажать нас всех на некий срок в тюрьму будет не то что несправедливо, это будет подло. Мне многие предлагали покаяться, извиниться, сказать то, что хотели услышать следователи, но знаете, я не считаю нужным каяться и уж тем более извиняться перед этими людьми, ― чеканила Наумова. ― У нас в стране принято, что эти люди абсолютно неприкасаемые, в то время как известно много случаев с их стороны крышевания наркобизнеса, проституции, изнасилований. Недавно они [полицейские] изнасиловали пятнадцатилетнюю девочку в Липецке. И что, получается, если у человека погоны, он априори честен и свят?!» Не признав свою вину, Духанина продолжила: «Я почему-то уверена, что я даже в тюрьме буду свободнее, чем многие из них [полицейских], потому что моя совесть, в отличие от них, будет чиста».
Денис Луцкевич был краток: «Выдвинутое обвинение вызывает у меня большие сомнения, поскольку ни один из омоновцев, признанных потерпевшими, не опознал меня на первом допросе. Правда всегда победит, даже если погибнуть в бою».
Артем Савелов ограничился одной фразой: «Меня, мягко говоря, оговаривают. Прошу освободить».
Дольше всех ― четыре с лишним часа ― выступал Сергей Кривов. Свое последнее слово он начал с того, что считает президента Владимира Путина личным врагом: «Из-за него люди перестали верить в суды и правоохранительные органы». Точка невозврата, по признанию Сергея, была для него пройдена в момент «циничного заявления Медведева и Путина о рокировке, которой аплодировали члены “партии жуликов и воров”». Пояснив, что оказался на Болотной площади по причине фальсификации парламентских выборов ― «Я был наблюдателем, на моем участке в пользу “Единой России” украли 216 голосов», ― Кривов приступил к детальному разбору шестидесяти с лишним томов уголовного дела. Он в очередной раз напомнил, что «ситуация на площади была спровоцирована омоновцами, закрывшими от митингующих сквер», затем перешел к анализу протоколов допросов, предварив их словами: «Вернемся к нашим ба…к нашим потерпевшим полицейским». Согласно его выводам, ни один из них не был в состоянии «идентифицировать людей, якобы на них напавших». Ни один из них не получил серьезных травм, не сказал ни слова правды и, что самое главное, не понес ответственности за свои собственные действия на Болотной площади.
В его последнем слове было пять томов. Одетый в «адидасовский» костюм и ботинки без шнурков, Кривов доставал все новые и новые бумаги из портфеля, стоявшего на лавке рядом с ним. Когда он дочитал четвертый том, судья Наталья Никишина, слушавшая все речи с невозмутимостью сфинкса, не выдержала: «Кривов! Вы перепутали стадии! Это не прения! Судебное заседание окончено!» Объявив перерыв до полудня 21 февраля ― в этот день будет оглашен приговор ― Никишина покинула зал. Конвойные вывели подсудимых из клетки.
«Денис, как тебе удобнее ― чтобы я на свидание до приговора пришла или уже после?» ― громко спрашивала подсудимого Луцкевича его мать Стелла Антон. «Ты приходи, мам, когда тебе удобно будет», ― отвечал он.
Светлана Рейтер
Источник: lenta.ru