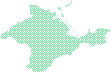Руководитель московского офиса Фонда Генриха Белля, политолог Йенс Зигерт уходит в отставку после 16 лет работы. Фонд Белля — один из крупнейших немецких фондов в России: с 1990-х годов поддерживает некоммерческие организации, проводит летние школы и конференции, предоставляет стипендии и гранты ученым, студентам и гражданским активистам. Александр Борзенко выяснил у Зигерта, с каким чувством тот покидает пост и нет ли у него ощущения полного провала.
Руководитель московского офиса Фонда Генриха Белля, политолог Йенс Зигерт уходит в отставку после 16 лет работы. Фонд Белля — один из крупнейших немецких фондов в России: с 1990-х годов поддерживает некоммерческие организации, проводит летние школы и конференции, предоставляет стипендии и гранты ученым, студентам и гражданским активистам. Александр Борзенко выяснил у Зигерта, с каким чувством тот покидает пост и нет ли у него ощущения полного провала.
— Почему вы вдруг уходите после стольких лет?
— Дело именно в том, что я очень давно занимаю свой пост. В офисе существует правило, что руководители не должны оставаться на одном посту больше шести лет, а я возглавляю его уже 16 лет. Несколько раз делали исключение, а сейчас мы обоюдно решили, что хватит, пора заниматься чем-то другим и дать поработать новому человеку.
— Основные направления вашей работы — развитие демократии, экологические проекты, гендерного равноправия, международного диалога. Многим кажется, что по всем этим пунктам в России сейчас все очень плохо. У вас нет ощущения апокалипсиса по итогам всех этих лет?
— Апокалиптического ощущения нет, но я вообще не склонен к таким настроениям. Конечно, по направлениям, которые важны для Фонда Белля, в России сейчас большой кризис. Но я не думаю, что нужно идеализировать те, старые времена.
— И раньше было плохо?
— Я открыл офис Фонда Белля в августе 1999 года. По стечению обстоятельств — примерно тогда, когда Путина назначили премьер-министром. В 1990-е годы в России было очень много свободы, но это была очень, так скажем, неразобранная, дикая свобода, свобода сильных. Думаю, тогда в высказываниях Путина о диктатуре закона слово «диктатура» было важнее, чем слово «закон». Мы работали в Москве и до открытия офиса с очень многими и разными неправительственными организациями. И в 1999-м у нас достаточно быстро появилось ощущение, что времена становятся труднее.
— В чем выражалось это ощущение?
— Вот маленький штрих. Осенью 2000 года мы организовали первую встречу всех наших российских партнеров. Это был «Мемориал», Центр независимых социологических исследований и «Гражданский контроль» из Санкт-Петербурга, разные экологические организации, организации из гендерной области и отдельные люди, с которыми мы сотрудничали. Мы собрались в маленьком городке Воскресенском, в доме отдыха, который, кстати, принадлежал Управлению делами президента — так сложилось. Мы сочинили и подписали там то, что мы назвали Воскресенской конвенцией. Суть была такая: мы представители гражданского общества, и мы должны быть солидарны друг с другом. Хотя тогда экологи и правозащитники плохо понимали друг друга, и вместе презирали феминисток. Но они чувствовали, что занимаются одним делом, и нужно вместе защищаться от возможного давления со стороны государства. Тогда давления не было, но, кажется, мы были достаточно дальновидны.
— Когда началось давление?
— Наши партнеры вели оборонительные бои все последние 15 лет. В 2001 году появилось новое [более жесткое] налоговое законодательство. Потом Кремль предпринял первую попытку объединить неправительственные организации под своим контролем, в результате в 2006 году появилась Общественная палата. Вскоре вышел новый закон о неправительственных организациях, потом были путинские высказывания о тех, кто «шакалит» у иностранных посольств и иностранных организаций. По большому счету, ничего не изменилось. Изменилось другое: после Крыма, а вернее даже после протестов 2011–2012 года, Кремль ведет борьбу на уничтожение — это больше уже не попытка кого-то дисциплинировать. Законы о «нежелательных организациях» и об «иностранных агентах» направлены на полное подчинение неправительственных организаций государству.
— Правильно ли я понимаю, что закон об «иностранных агентах» не должен был вас коснуться, так как вы — иностранная организация?
— И да, и нет. Этот закон напрямую коснулся наших партнеров. На сегодня где-то 80% организаций, которые когда-либо получили какие-то деньги от Фонда Белля, объявлены агентами и состоят в реестре минюста. Для этих организаций выбор сейчас очень простой — назвать себя «иностранными агентами» или отказываться от иностранных денег. Агентом никто из них себя объявлять не будет, потому что это ложь, а лгать о себе — ниже их достоинства. Значит, они должны отказаться от получения денег. Собственно, это означает изменение отношений с нами, хотя они, конечно, останутся партнерскими.
— Насколько для российских некоммерческих организаций будет критично отсутствие иностранного финансирования?
— Трудно сказать. Ни у кого нет обзора финансирования общественной работы. Самая большая часть работы всех наших партнеров проводится на общественных началах. Но есть вещи, которые делать на общественных началах невозможно или очень трудно. Российское законодательство очень требовательно к неправительственным организациям. Более требовательно, чем к бизнесу. Нельзя представить себе НКО без профессионального бухгалтера. Невозможно знать все эти правила и ловушки, все грабли, на которые можно наступить. Если вы этого не знаете, можно сразу закрываться, потому что это слишком опасно. Очень часто в этих организациях именно бухгалтер, а не кто-то из руководства — самая оплачиваемая должность.
— Как в фонде восприняли появление закона о «нежелательных организациях»? Ведь это очевидная угроза для такого фонда как ваш.
— Такие законы, если посмотреть в мировом масштабе, не новы. В Белоруссии давно действует гораздо более жесткий закон, иностранных денег там вообще нет. Есть такие законы в Китае, Иране, Эфиопии. Фонд Белля работает во всех этих странах, поэтому мы с этим хорошо знакомы. Что касается России, конечно, мы надеялись, что до этого не дойдет. Но на самом деле все иностранные организации, схожие с Фондом Белля, которые работают в России, как минимум десять лет уже живут с тем, что в какой-томомент все может прекратиться. Например, нашу регистрацию в Минюсте можно снять — в законе довольного много инструментов для этого.
— У вас есть какие-то возможности прощупывать почву, общаться с людьми, принимающими решения о включении НКО в тот или иной черный список?
— Нет. Иногда бывают неформальные встречи на каких-то приемах, но они довольно бесполезные, так как люди, которые действительно принимают решения, там не появляются.
— Вы как-то говорили, что особые отношения между Россией и Германией делают Фонд Белля более защищенной организацией, чем, скажем, американские. Это так?
— Безусловно. Сейчас наши коллеги из немецкого посольства говорят, что им неофициально дали понять — пока против немецких фондов никто ничего делать не собирается. Нам всем понятно, что это вопрос не правовой, а исключительно политический. Посмотрите на ситуацию вокруг восточной Украины и Крыма. Уже почти год ничего не двигается ни в одну, ни в другую сторону. Если отношения с Западом и Европейским союзом останутся на том же уровне, или, может быть, немного улучшатся, конечно, Германия — это самый главный партнер России, так всегда говорит президент Путин. Правда, он говорит это слово так, что я бы не хотел быть партнером.
— Что вы считаете успешным результатом вашей работы в России?
— За последние годы наши партнеры из числа неправительственных организаций стали гораздо профессиональнее. Это, кстати, отчасти произошло из-за давления государства. Прокуратура может себе позволить халтурить, так как знает, что суд в большинстве случаев просто копирует ее решение. А когда нужно бороться и доказывать свою правоту, нужно работать очень аккуратно. И еще: и мы, и другие организации очень много работаем с молодыми людьми. И я вижу огромную разницу между современными молодыми людьми и молодежью двадцатилетней давности. У современных молодых людей нет страха перед государством. Иногда они настолько бесстрашны, что даже выглядят легкомысленными. Немного страха помогает выжить, немного осторожности не повредит. Это бесстрашие касается людей разных политических взглядов — и либералов, и левых, и правых. В этом бесстрашии — хороший залог того, что сегодняшняя ситуация ненадолго.
За полгода до протестов 2011–2012 года казалось, что все забетонировано, и если что и может появиться — то только в социальной сфере. А в итоге все произошло из-за выборов. Люди почувствовали, что государство не воспринимает их всерьез.
— Есть мнение, что ценности, которые вы проповедуете, близки только узкому слою населения, которые и вышли тогда на Болотную площадь. А путинским 86% все это не нужно и непонятно. Вы согласны с этим?
— У меня есть очень много знакомых в России и даже родственников, которые считают, что «крымнаш» — это хорошо. Путина они скорее не очень любят, но тут готовы его поддерживать. И теперь они, наверное, входят в эти 86%, хотя данные подобных социологических опросов я воспринимаю с оговорками. При этом большинство людей, с которыми я общаюсь, — за демократию. Возможно, мы немного по-разному себе представляем, что это такое, но по глобальным вопросам — кто и как должен править, как его должны выбирать — сходимся.
У меня есть очень хороший друг, бывший военный, сейчас работает риелтором. Он всегда голосовал за коммунистов, а сейчас голосует за Путина. Все, что в нем говорит, это, скорее всего, некоторая обида. Ему «за державу обидно», и он не очень знает, что с этой обидой делать.
— Обида на что?
— На убогость государства. Все прекрасно понимают, что здравоохранение хреновое, за образование надо платить, и все равно оно плохое, а если человек стареет — дай бог у него есть родственники, и дай бог у них есть деньги. Человеку в России на государство рассчитывать не приходится. Это глубокое одиночество, на мой взгляд, возрождает тоску по чему-топрошлому, чему-то хорошему, уютному, теплому, совместному. Это Путин дал таким людям историей с Крымом. Это какой-то суррогат. Я такое видел в гостиницах — фальшивый камин. Выглядит как камин, но там электрический огонек, который даже не греет. Некоторое время можно это использовать, а потом уже невозможно. Вопрос в том, куда потом денется злость, которая все равно есть.
— А куда она денется?
— Злость можно направлять вовне, и это очень опасно. Это как раз немецкий опыт. Германия делала это дважды — в Первой и во Второй мировой войне. К чему это привело, в России никому не надо рассказывать. Я очень надеюсь, что здесь и близко не произойдет ничего подобного.
— Но вам кажется, что это справедливое сравнение — довоенной Германии и нынешней России?
— Там, конечно, очень много разного. Совсем другая международная обстановка, совсем другая страна. В этом смысле нельзя сравнить одну историческую ситуацию с другой. Но и там в народе была эта обида: мы заслуживаем лучшего, а нам почему-то ничего не дают, давайте искать виновников вовне. И нацисты этим пользовались. Но я не вижу среди нынешнего российского руководства людей, которые бы этим так пользовались. Нынешнее российское руководство не идеологическое. Они только пользуются идеологией, чтобы добиться своих целей. Чтобы выжить, чтобы остаться во власти. Я говорю только о состоянии общества — не нацистского, а преднацистского, веймарского. Это люди, проигравшие войну, и считавшие, что это несправедливо. И многие считали, что в стране есть «пятая колонна», помогавшая внешним врагам. Мы сейчас в России тоже много такого видим.
— Это касается и так называемых «элит»? Бизнесменов, достаточно высокопоставленных чиновников?
— Почти все всё прекрасно понимают. В личной беседе — хотя таких бесед стало куда меньше, чем раньше — почти никто не попытается что-тооправдывать или повторять то, что говорят по телевизору. Люди же не глупые. Но когда речь заходит о Крыме, слышится какой-тотриумфализм — тут мы вам фигу показали, тут вы ничего сделать не можете. Я же немец, мне часто говорят: а тут мы америкосам фигу показали. А почему вы, немцы, не с нами? Вы же хорошие, почему вы с этими американцами? Это потому что вы несвободны, они вас шантажируют, они вам приказывают! Вот это стало сильнее — идеи каких-то заговоров.
В немецком языке есть такое слово — eigensinnig — упорство. Буквально можно перевести так — «собственный смысл». У каждого человека есть свой собственный смысл, он делает какие-то вещи, потому что этого хочет, и не нужно каких-то причин для этого. Я люблю это блюдо, а другому человеку оно не нравится, и невозможно объяснить, почему. А в России очень многие люди отрицают существование собственного смысла в общественном пространстве. Они смотрят на меня как на человека, к которому привязаны ниточки, и какая-то большая Европа дергает за них. Вот этого недоверия в последнее время стало больше.
— Фонд Белля много занимался осмыслением опыта сталинизма. Сейчас есть ощущение некоторой шизофрении: с одной стороны, правительство одобряет концепцию увековечения жертв репрессий, а с другой — сквозь пальцы смотрит на попытки реабилитировать Сталина. Откуда эта двойственность?
— Простого ответа тут нет. Когда пытаешься объединить общество темой Победы в Великой Отечественной Войне, избежать темы Сталина не получится. С другой стороны, власть все-таки боится заигрывать с образом Сталина. Репрессии в Советском Союзе коснулись почти всех. Очень много людей, у которых есть в семье и истории репрессированных, и людей, которые в репрессиях участвовали. Часто это один человек — дед или прадед, который сначала репрессировал, а потом сам был расстрелян. Это можно попытаться полностью игнорировать, но нынешняя власть чувствует, что это не слишком долго будет возможно, и требует больших усилий.
Сегодня принято говорить, что Советский Союз распался из-занационального вопроса, из-за падения цен на нефть или из-за Чернобыля… Мне кажется, все это играло определенную роль, но самым массовым общественным движением были люди, которые хотели знать, что случилось с их родными и друзьями. Люди не забывают массовых репрессий. Они могут под большим давлением скрывать свой траур, свой гнев, свою скорбь, но они не забывают. Мне кажется, власть это чувствует, поэтому они делают и то, и другое. Тут немножко Дзержинского, а тут концепция увековечивания памяти жертв политических репрессий. С одной стороны немножко Сталина, с другой стороны что-то другое.
— Что вы планируете делать теперь, когда ушли из фонда? Вы останетесь в России?
— Я беру в фонде творческий отпуск на два года и собираюсь писать что-тодлинное. Темой, конечно, будет Россия. Жить собираюсь в России. Моя жена — российская гражданка, москвичка, я собираюсь подать на вид на жительство, посмотрим, что получится. Я уже сдал экзамен на знание русского языка, российской истории и российского законодательства, и я здоров. Дальше должны рассматривать ФМС и другие компетентные органы. Когда меня об этом спрашивают, я всегда рассказываю старый советский анекдот. Еврей приходит в партком и спрашивает: «Скажите, я имею право поехать в Париж?» — «Конечно, имеете право». — «Тогда еще один вопрос: я могу поехать в Париж?» — «Конечно, не можете!» Так что посмотрим.
Источник: meduza.io